В День святого Валентина. Глава «½» из романа «История мира в 10 ½ главах» Джулиана Барнса
Я хочу рассказать вам о ней. Именно сейчас, когда мир находится в плену у ночи. Сейчас, когда через занавес не просачивается даже лунный свет, и лишь шаги возвращающегося домой Ромео прерывает ночную тишину. Сейчас, пока еще не слышно привычно-обычного, и такого милого щебетания первых птиц. Она лежит спиной ко мне, на боку. Она дышит ровно и спокойно. Я не вижу ее – слишком темно, но я могу, тем не менее, раскрасить контурную карту ее тела. Когда она счастлива, она может проспать в одном положении едва ли не всю ночь. Я не раз наблюдал за ней в эти предрассветные и так подходящие для бессонницы часы, и могу поклясться, что спит она спокойно и безмятежно. Возможно, ей просто снятся хорошие сны, и ничего не беспокоит; но для меня такой ее сон нечто большее: счастливый знак.
Мы засыпаем по-разному. Она разрешает унести себя теплому и спокойному течению ночи, и качается на его волнах до самого утра. Я же засыпаю с трудом, и ныряю в ночь, как в пучину, всегда неохотно. Иногда потому что злюсь, что еще один прекрасный день закончился, а иногда – что этот день вообще начался. Наше путешествие в в бессознательное протекает по разным маршрутам. Порой какая-то сила выбрасывает меня из кровати; имя этой силы – страх; страх времени и смерти; паника, что впереди – лишь пропасть. Я вскакиваю с кровати, обхватываю голову руками, и кричу – бесполезное (и, к сожалению, неубедительное) нет! нет! нет! И — просыпаюсь. Нежность, единственное ее орудие, с легкостью прогоняет злых демонов моего страха, и собаки Баскервилей снова убегают на свои болота.
Иногда — значительно реже – просыпается с криком она. Теперь мой черед спасать ее. Сон моментально слетает с меня. Ее губы сообщают мне, почему она кричала: «очень большой жук», как будто бы она не стала кричать, если бы он был поменьше. Или: «там были скользкие ступеньки». Или – просто (что, по-моему, звучит странно – мне кажется, что это тавтология): «что-то ужасное». Потом, словно свернув с этого опасного пути, и стряхнув с себя всю эту мерзость, она погружается в спокойный и безмятежный сон. Я долго лежу без сна, сжимая в кулаках кошмары из ее видений, всех тех жуков, и перебирая в руках камешки с той дороги, и – любуюсь ею. (Я совсем не утверждаю, что мои сны более значительны. Сон демократизирует страхи: ужас от потери туфельки или страх опоздать на поезд кажется во сне таким же, как страх атомной войны или внезапное нападение бандитов в реальности). Я смотрю на нее с обожанием еще и потому, что ее сон лучше и крепче, чем мой. Он не доставляет ей никаких хлопот, и она ориентируется в нем также уверенно, как опытный путешественник в незнакомом аэропорту, в то время как я лежу с широко открытыми глазами, с просроченной визой, толкая тележку с багажом в противоположном от нужного мне направлении.
И вот… она спит, на боку, отвернувшись от меня. Все мои военные хитрости и передислокации напрасны: сон не берет меня в плен. Что ж, тогда я буду рассматривать нежный излом ее тела. Я устраиваюсь поудобнее, моя лодыжка касается ее ноги. Сквозь сон она чувствует мое прикосновение, и убирает волосы с плеч; теперь я могу любоваться ее голым затылком, спрятать там свое лицо. Каждый раз, когда она так делает, у меня бегут мурашки по коже от любви: даже во сне она нежно заботится обо мне. Слезы наворачиваются мне на глаза; мне хочется разбудить ее и сказать, как сильно я ее люблю; но я не делаю этого. Своим прикосновением она зацепила струну в моей душе, струну любви к ней. Конечно, она не знает об этом: я никогда не рассказываю ей о том, как прекрасна она во дне и в ночи. Нет, это не так: я рассказываю. Сейчас.
Думаете, она просыпается, когда открывает глаза? Возможно, мои слова – робкое проявление вежливости, красивый жест. Я ни в коем случае не утверждаю, что корни любви лежат за расплывчатой гранью сознания и разума. У вас все основания воспринимать меня скептически: наша снисходительность к любящим друг друга людям редко имеет границы. Их амбиции и соревнование в тщеславии редко уступает амбициям политиков. Но у меня есть еще одно доказательство. Ее волосы – смотрите – они ниспадают на плечи. Несколько лет назад, когда синоптики предсказали жару продол- жительностью в несколько месяцев, она коротко подстриглась. В течение всего дня ее затылок был открыт для поцелуев. Знойными летними ночами, когда мы лежали под тонкой простынкой, я изнемогал от жары: эти ночи были так коротки, и, тем не менее, мучительны для меня. Я поворачивался к нежному S-образному излому ее тела, и она, прошептав что-то одними губами, убирала с затылка несуществующие волосы.
«Я люблю тебя», — шепчу я ее затылку.
«Люблю». Писатели знают, что искусство слова должно оказывать влияние на читателя лишь косвенно. Если появляется соблазн поучать, писателю следует представить себя одетым с иголочки капитаном на капитанском мостике, наблюдающим за надвигающимся штормом, отдающим спешные команды и запускающим салют с огненного колеса Екатерины Александрийской (1), чтобы привлечь внимание. Писателю также нужно представить, что за штурвалом никого нет, и моторного отделения не существует, и что штурвал был давно сломан. Капитан может лишь сделать вид, что ситуация у него под контролем, и убедить в этом еще горсточку пассажиров. На самом же деле судьба качающегося на волнах судна не в его руках, но во власти стихии, неспокойных течений, шквальных ветров, айсбергов и подводных рифов.
И все же.. Писатель порой не может не злиться, что постоянно приходится лавировать, и идти окольными путями. На полотне Ель Греко «Погребение графа Органса» изображены скорбящие. (2) Их взоры устремлены на усопшего; их лица печальны. И лишь один смотрит прямо на нас, и именно его ироничный взгляд угнетает и приводит в замешательство. Согласно преданию, это и есть Эль Греко. Да, это моя работа, как бы говорит он. Я нарисовал это. Я готов нести ответственность за содеянное, и я прямо смотрю вам в глаза.
Поэтам, пожалуй, легче писать про любовь, чем прозаикам. Хотя бы потому, что им принадлежит местоимение «я» (когда я говорю «я», вам, возможно, захочется узнать сразу – в первом ли втором абзаце – имею ли я в виду Джулиана Барнса или лицо вымышленное); поэт же может играть на полутонах, подразумевая то персонаж вымышленный, то самого себя. Он может зарабатывать дополнительные баллы суммой чувств этих двух «я», законно претендуя на большую объективность. Кроме того, поэты одним взмахом пера могут превратить любовь скверную, любовь эгоистическую и любовь дерьмовую – в волшебную любовную лирику. Прозаикам не под силу такие нечестные, но прекрасные превращения: мы лишь можем превратить скверную любовь в рассказ о любви скверной, эгоистической и дерьмовой. Поэтому мы немного завидуем (и не всегда верим на все сто), когда поэты говорят нам о любви.
А они пишут любовную лирику, которая выходит в сборниках под названием, скажем, «Антология Любви в сонетах и стихах». Что еще? — Пожалуй, любовные письма. Они также выходят в сборниках, в серии «Золотая коллекция писем о любви» (их даже можно заказать по почте). Однако я не знаю, какому жанру принадлежит любовная проза. «Любовная проза» звучит нелепо, искусственно и противоречиво. Любовная проза: «Настольная книга о простенькой и незатейливой любви». Нет, в книжном магазине она продается не в отделе фантастики: спрашивайте в секции «кулинария и домоводство».
Канадская писательница Мавис Галлант писала: «что такое двое – пожалуй, единственная тайна, нераскрытая до сих пор. Как только мы разгадаем ее – отпадет необходимость в литературе, да и в самой любви». Когда я прочел эти слова впервые, я поставил «?!» на полях, подразумевая, что такой ход, возможно, красив, но нелогичен. Позже я согласился с точкой зрения Галлант, и заменил «?!» на «!!!».
«Пусть мы умрем – но будет жить любовь». К такому выводу осторожно приходит Филипп Ларкин в своем стихотворении «Арундельская могила». Весь его стих пропитан ядом разочарования, и поэтому последняя строка вызывает удивление. Однако прежде чем облегченно вздохнуть, возможно, стоит оценить волшебную поэзию с точки зрения сухой прозы: а верно ли утверждение? Действительно ли любовь остается жить после того, как умираем мы? Да, это было бы прекрасно.
Как приятно было бы думать, что наша любовь – словно звезда, — такой источник света, который продолжает светить после нашей смерти. Помните первые телевизоры? После того, как их выключали, на экране оставался кружочек, величиной с пятак. Этот пятак цвета-света постепенно уменьшался и превращался в мааленькую точечку. Когда я был ребенком, я наблюдал за этим чудным превращением каждый вечер. Мне всегда втайне хотелось остановить процесс угасания (с юношеской меланхолией я сравнивал тот сгусток света с человеческой жизнью, которая после смерти постепенно растворяется в черной вселенной). Горит ли звезда любви после нашей смерти, как пятачок света на экране выключенного телевизора? Я никогда не узнаю об этом. Когда один из любящих умирает, любовь умирает вместе с ним. Если что-либо и остается после нашей смерти, то вряд ли это будет любовь: после Ларкина осталась его поэзия, но не его любовь. И когда я перечитываю последнюю строчку «Арундельской могилы», то всегда вспоминаю Уильяма Хаскиссона, известного политика и бизнесмена своего времени. Тридцатого сентября 1830 года во время церемонии открытия железной дороги он оказался на пути поезда Ливерпуль – Манчестер, и стал (именно стал) первым человеком, которого раздавил поезд. Продолжала ли гореть звезда любви Уильяма Хаскиссона после его смерти? – нам не узнать этого; от него осталось лишь последнее мгновенье – мгновенье его фатальной беспечности. Смерть превратила его в камею (4), сделав поучительным примером безжалостного научно-технического прогресса.
I love you. Во-первых, давайте положим эти слова на самую верхнюю полку комода; в шкатулку, за стекло, которое мы при необходимости выбьем; в несгораемый сейф. Они не должны валяться где попало, как пузырек с витамином С. Если они всегда под рукой, мы перестанем задумываться, произнося их; этого не избежать. Нет, нет, это не про нас, говорим мы, но это иллюзия. Алкоголь, одиночество, или – что наиболее вероятно – тщетная надежда, — и все: эти три слова израсходованы, потеряны, затерты. Нам может показаться, что мы любим, и пробуя эти слова на вкус, мы лишь пытаемся понять, подойдут ли они. Но нет: за ними не спрячешься. Эти три слова – волшебные; мы должны быть уверены, что заслужили право на них.
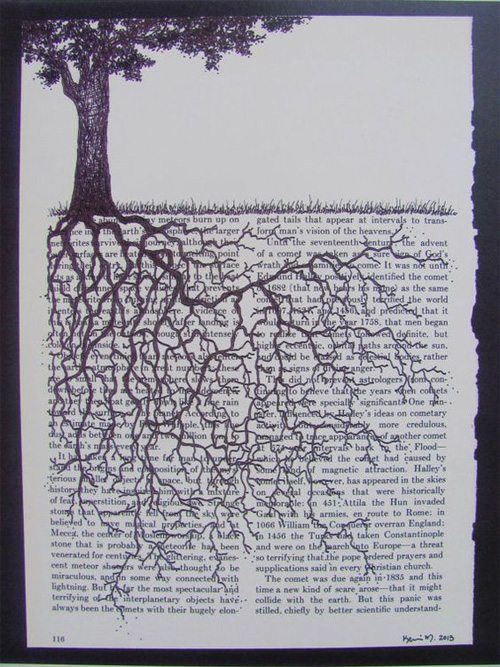 Вслушайтесь в них еще раз: I love you. Субъект действия, действие и объект действия: самодостаточное простое предложение. Субъект действия – однобуквенное и острое, как стрела, слово; любящий словно предается самозабвению. Глагол – длиннее, но, тем не менее, однозначен и убедителен: язык соскакивает с неба, чтоб выпустить гласную. Объект действия, как и субъект, не содержит согласных. Чтобы произнести это “you”, губы вытягиваются вперед, как для поцелуя. I love you. Как серьезно, взвешенно и продуманно это звучит.
Вслушайтесь в них еще раз: I love you. Субъект действия, действие и объект действия: самодостаточное простое предложение. Субъект действия – однобуквенное и острое, как стрела, слово; любящий словно предается самозабвению. Глагол – длиннее, но, тем не менее, однозначен и убедителен: язык соскакивает с неба, чтоб выпустить гласную. Объект действия, как и субъект, не содержит согласных. Чтобы произнести это “you”, губы вытягиваются вперед, как для поцелуя. I love you. Как серьезно, взвешенно и продуманно это звучит.
Иногда мне кажется, что между языками мира существует некий тайный сговор. Словно на некоем собрании было решено, что эта фраза должна произноситься только тогда, когда она выстрадана, заработана, заслужена.
Ich liebe dich: ночь, звезды, низкий, прокуренный голос и чудной унисон субъекта и объекта действия.
Je t’aime: здесь порядок несколько иной: субъект и объект слетают с губ почти одновременно, чтобы освободить путь гласному глагола и насладиться его стройным звучанием. (Синтаксис также может служить доказательством: когда объект действия ставится перед глаголом, любящий как бы намекает, что его выбор – именно ты).
Я тебе кохаю: объект действия защищен с обеих сторон. Но в этом случае, несмотря на едва уловимую рифму субъекта и объекта действия, это «тебе» напоминает препятствие, которое необходимо преодолеть, чтоб добраться к искомому «кохаю».
Ti amo: словно терпкое на вкус вино, аперитив-прелюдия. Вместе с тем, структура словосочетания звучит убедительно: субъект действия и действие слились в одно слово amo.
Простите мне мой дилетантский подход. Я с удовольствием передам все собранные мной материалы активистам какой-нибудь благотворительной организации занимающейся вопросами образования и культуры. Пусть они проведут исследование и проанализируют, как звучит эта фраза на языках мира, и какие изменения претерпевает. Пусть выяснят, как влияет лексический состав, синтаксис и звуковой ряд на тех, кому они адресованы. Пусть установят зависимость меры счастья от яркости этой фразы. Вопрос из зала: существуют ли племена, языки которых не знают слов я тебя люблю? Или они давно вымерли?
Мы должны держать эти слова в шкатулке за стеклом. И когда мы достаем их оттуда, мы должны быть с ними осторожны. Мужчины говорят «я тебя люблю» чтобы затащить женщин в постель; женщины говорят «я тебя люблю», чтобы затащить мужчин в ЗАГС. И те, и другие говорят «я тебя люблю» чтобы не выпустить джина страха из бутылки, и убедиться в действии посредством глагола «люблю»; чтобы уговорить себя, что обетованное превратилось в реальность, и уверить себя, что это чувство не улетучилось. Нет, нельзя злоупотреблять этими словами! — Я тебя люблю не должно превратиться в разменную монету, в облигацию займа, не должно стать источником прибыли. Именно так и будет, если мы потеряем бдительность. Поэтому я шепчу лишь ее затылку эти хрупкие слова. Затылку, с которого она только что убрала несуществующие волосы.
…Вы, возможно, догадались, что я в данный момент далеко от нее. Международный телефон автомат-пересмешник вторит металлическим эхом мои слова. «Я тебя люблю», говорю ей я, и перед тем как она отвечает, слышу цифровую версию самого себя: «я тебя люблю». Мне не понравилось, как они прозвучали, и стали достоянием общественности, и я повторяю их еще раз. Тот же результат. Я тебя люблю, я тебя люблю уже напоминает песенку, недолго возглавлявшую хит-парады, и стремительно скатившуюся вниз, в дешевые клубы, где ее исполняют местные рокеры в засаленных джинсах. Под аккомпанемент трех аккордов они будут повторять эти слова чтоб заставить еще больше оголиться танцующих рядом со сценой девиц. Я тебя люблю, я тебя люблю, поет солист. Облизывается барабанщик. Ухмыляется бас-гитарист.
К любви, ее языку и жестам следует относиться бережно. Если она – наше спасение, не следует шутить с ней – ведь мы не шутим со смертью. Возможно, искусству любви должны учить в школе? Первый год: дружба; второй – нежность; третий: страсть. Почему нет? – в школе же учат готовить, ремонтировать машину и трахаться так, чтоб не забеременеть. Наши дети знают и умеют гораздо больше, чем знали и умели мы в их возрасте, говорим мы. Но скажите, зачем им все это, если они не знают, что такое любовь? Пусть учатся сами, методом проб и ошибок, считаем мы – человеческая природа все равно возьмет свое: сработает автопилот. Однако, Природа, на которую мы возлагаем ответственность за все, что неподвластно нашему пониманию, не всегда работает в автоматическом режиме. Она редко наставляет неопытных девственниц, которые приняли предложение руки и сердца, и рассказывает, как следует вести себя после того, как в спальне погас свет. Доверчивым девственницам говорили, что любовь – это земля обетованная, ковчег, который спасет двоих от потопа. Но им забыли рассказать, что на этом ковчеге могут прятаться людоеды, и что этим ковчегом может управлять сумасшедший старик, который может вышвырнуть их в любой момент в бурлящие воды.
Давайте начнем сначала. Делает ли любовь нас счастливыми? Нет. Любовь делает счастливым того, кого любим мы? Нет. Любовь расставляет все по своим местам? Опять нет. Когда-то я думал именно так. А вы – нет? (Или, возможно, до сих пор психея (5) шепчет вам, что так и есть)? Об этом мы читаем в книгах и смотрим в фильмах. Герой находит свою любовь, и – закат; happy end. Для чего же нужна любовь, если она не решает всех проблем? И все-таки, можно ли говорить о том, что любовь — это источник вдохновения, который облегчает тупую боль, постоянно живущую в сердце, и что любовь – это своего рода обезболивающее?
Двое любят друг друга, но они несчастливы. Какой напрашивается вывод? Что один из них не любит по-настоящему? Или что они любят друг друга недостаточно? Я не согласен с по-настоящему; я не согласен с недостаточно. Я любил дважды (и мне кажется, что это немало). Первая любовь была любовь взаимная, вторая – несчастная. И именно несчастная любовь рассказала мне все, что я знаю о Природе Любви. Конечно, это знание это пришло ко мне не сразу; лишь спустя годы. Даты, события – эти графы вы заполняете так, как вам угодно. Но я любил, и был любим; долго, много лет. Сначала я был безмятежно счастлив и одурманенный солипсической радостью. (6) В тоже время мое счастье причиняло мне странную боль, и приводило в растерянность. Я любил ее недостаточно сильно? Нет, я любил ее очень сильно – я отложил все свои планы на будущее ради нее. Она любила меня недостаточно сильно? Я знаю, что она любила меня достаточно сильно – она порвала со всем своим прошлым ради меня. Мы жили вместе много лет, теряясь в догадках, почему счастье и любовь составляет лишь неравенство, и на каком этапе вычислений была допущена ошибка. Взаимная любовь не давала права на добавочную порцию счастья, но мы упрямо утверждали, что было именно так.
 И лишь позже я понял, во что я верил, полагая, что верю любовь. Порой нам кажется, что она — движущая сила: моя любовь делает ее счастливой, а ее любовь делает счастливым меня: разве не так? Но нет, не так: такое рассуждение ведет к ошибочной концептуальной модели. Исходя из таких рассуждений получается, что любовь – это волшебная палочка, при помощи которой можно рассечь Гордиев узел, достать из пустой шляпы десять косынок, и выплеснуть в небо белых голубей. На самом же деле волшебных палочек не существует: они состоят из элементарных частиц. Моя любовь не делает, да и не может сделать ее счастливой; моя любовь лишь может раскрыть в ней способность быть счастливой. Теперь все становится на свои места. Почему мы не можем сделать друг друга счастливыми? Все просто: не происходит атомной реакции, которую вы ждали, потому что поток излучения, при помощи которого вы собирались взрывать элементарные частицы, не той частоты.
И лишь позже я понял, во что я верил, полагая, что верю любовь. Порой нам кажется, что она — движущая сила: моя любовь делает ее счастливой, а ее любовь делает счастливым меня: разве не так? Но нет, не так: такое рассуждение ведет к ошибочной концептуальной модели. Исходя из таких рассуждений получается, что любовь – это волшебная палочка, при помощи которой можно рассечь Гордиев узел, достать из пустой шляпы десять косынок, и выплеснуть в небо белых голубей. На самом же деле волшебных палочек не существует: они состоят из элементарных частиц. Моя любовь не делает, да и не может сделать ее счастливой; моя любовь лишь может раскрыть в ней способность быть счастливой. Теперь все становится на свои места. Почему мы не можем сделать друг друга счастливыми? Все просто: не происходит атомной реакции, которую вы ждали, потому что поток излучения, при помощи которого вы собирались взрывать элементарные частицы, не той частоты.
Но любовь – не атомная бомба, поэтому давайте возьмем более мирный пример. Я пишу эти слова, сидя за письменным столом своего друга, который живет в Мичигане. По американским меркам, его дом оснащен всем необходимым по самым современным стандартам оборудованием (нет только прибора, который делает счастливым). Вчера он привез меня из аэропорта Детройта. Подъезжая к дому, он нащупал в кармане пульт от ворот гаража; одно прикосновение к кнопке — и ворота открылись. Именно так выглядит и моя модель: вы подъезжаете к дому – просто представьте себе – нажимаете на кнопочку на самом обычно-волшебном пульте, но двери гаража не открываются. Вы пробуете ее и еще, с тем же результатом. Ваша озадаченность перерастает в обеспокоенность, обеспокоенность – в гнев, гнев — в отчаянье. Вы сидите в машине, возле дома, с включенным двигателем; сидите неделю, месяц, год, годы, и ждете, когда же откроется дверь. Но оказывается, что вы — в чужой машине, напротив дверей чужого гаража, возле чужого дома… Понимаете, одна из проблем заключается в следующем: сердце на самом деле – совсем не такое, каким его рисуют на картинках.
«Мы должны любить друг друга, или умереть» писал Уистен Хью Оден, вкладывая в уста Е.М. Форстера следующие строки: «Поскольку он написал, что «мы должны любить друг друга, или умереть» он, значит, может приказать мне следовать за ним». Оден, однако, не согласился с этими словами своего героя из «Первого сентября 1939 года». «Ерунда!» — комментировал он. – «Мы умрем в любом случае». Поэтому в обновленной редакции эта строка выглядела по-другому: «Мы должны любить друг друга и умереть». Позднее он вообще вычеркнул эту строфу.
Поэты очень часто заменяют или на и. Когда я впервые обратил на это внимание, я аплодировал объективности и бескомпромиссности, с которой Оден-критик правил Одена-поэта. Даже если строфа хорошо звучит в контексте, но ошибочна, — долой ее; такой подход позволяет делать вывод о критическом отношении автора к самому себе. Но сейчас я стал сомневаться. Мы должны любить друг друга и умереть звучит логично; эта строфа также интересна и удивительна с точки зрения иной человеческой деятельности: Мы должны послушать радио и умереть или Мы должны разморозить холодильник и умереть. Действительно, у Одена были веские основания вычеркнуть ее вообще. Однако я не согласен, что его первоначальный вариант «Мы должны любить друг друга, или умереть» неверен потому, что мы в любом случае умрем, и поэтому его вряд ли можно назвать обоснованным и продуманным. С моей точки зрения, существуют достаточно логичные и убедительные трактовки строфы с или. Во-первых, мы должны любить друг друга потому что в противном случае мы просто-напросто убьем друг друга. Во-вторых, мы должны любить друг друга, потому что если мы не будем любить – если не наполним любовью свою жизнь – мы превратимся в зомби. И это — не «ерунда»: те, кто заявляют, что в жизни есть какой-то иной смысл, отличный от любви, – опустошают себя. Такие больше походят одетых в овечью шкуру волков, которые рыщут по мертвому лесу.
Территория любви походит на минное поле. Мы должны ступать аккуратно и не опускаться до сантиментов. Если противопоставлять любовь таким коварным по своей натуре понятиям, как власть, деньги, история и смерть, мы должны воздержаться от самовосхваления и неточностей. Враги любви живут за счет именно таких размытых требований, и способности самой любви к упоению. Так с чего же начать? – Любовь может приносить и может не приносить счастье; и в том, и другом случае, главное ее предназначение – вдохновлять и наполнять энергией. Когда еще вы подбирали слова так точно, спали так мало, оставались в постели так долго – разве не тогда, когда впервые влюбились? Горят щеки даже у малокровных, остальные же просто горят. Кроме того, любовь распрямляет плечи, придает уверенность в себе. Создается впечатление, что лишь только сейчас мы крепко стали на ноги; нам кажется, что мы можем абсолютно все – и только потому, что влюблены. (Возможно, следует сделать разграничение. Любовь делает нас уверенней в себе, в то время как сексуальные победы развивает в нас самомнение?) Опять же, любовь обостряет зрение: мы сбрасываем с глаз пелену. Видели ли вы когда-либо мир, раскрашенный ярче, чем тогда, когда влюбились впервые?
Давайте присмотримся к природе. Можно ли увидеть, где начинается любовь? Вряд ли. В природе существует лишь несколько моногамных видов животных (представьте себе на минуту, как много удобных случаев для измен у самцов и самок – в течение постоянных миграций, перелетов, заплывов); но в общем — выживает сильнейший; самка отдает предпочтение тому, кто более удобен.
Феминистки и шовинисты по-разному трактуют природу. Феминистки охотятся за примерами, которые бы подтвердили безучастность и бездеятельность самцов в процессе эволюции; феминистки собирают доказательства такого их поведения, которое, если современное общество охарактеризовало бы как «немужское». Взять к примеру самца королевского пингвина, говорят феминистки: именно он, а не самка высиживает яйца; именно он защищает их от арктических холодов и ветров… Хорошо, отвечают шовинисты, — а что вы скажете о морском котике? – он лежит на пляже и трахает целыми днями морских кошечек. К сожалению, нормой является скорее образ жизни морского котика, чем королевского пингвина. Кроме того, я, как представитель т.н. «сильного» пола, почему-то сильно сомневаюсь в искренности намерений последнего: возможно, королевский пингвин просто-напросто понял, что если ему суждено жить в Антарктике, то гораздо разумнее высиживать яйца, отправив самку ловить рыбку в ледяной воде. Я допускаю, что королевский пингвин руководствуется соображениями выгоды.
Итак, от чего происходит любовь? Так уж она необходима? Мы можем строить плотины, как их строят бобры — без любви. Волки живут в стаях и без любви, — смогли бы и мы. Мы можем улететь в дальние края, как улетают ласточки — без любви. Мы можем засунуть голову в песок, как страусы – без любви. Мы можем исчезнуть как вид, как исчезли динозавры – без любви.
Может быть, своему выживанию человечество обязано какой-то определенной мутации? — Не думаю. Может быть, любовь привита нам, чтоб, скажем, солдаты оказывали большее сопротивление врагу, храня в своем сердце память о семейном очаге? Вряд ли: история мира показывает, что войны ведутся скорее тогда, когда в стране есть хороший полководец, когда выпустили новый вид оружия, когда обостряется жажда наживы, а не когда солдаты с ностальгией вспоминают о родном доме.
Тогда может быть любовь – это роскошь, которую, как вышивание крестом, можно себе позволить лишь в мирное время? Может быть, это что-то приятное, сложное, но не необходимое? Или любовь — случайный результат, побочный продукт и следствие культурного развития личности, на месте которой могло оказаться что угодно? Иногда мне кажется именно так. В северо-западной части Америки существовало племя индейцев, которые жили припеваючи, без печали и забот. Географическое расположение и отдаленность от цивилизации защищали их от врагов; почва в тех краях была очень плодородной. Им лишь приходилось подвязывать стелющиеся по земле побеги фасоли и винограда, да собирать богатый урожай. Они обладали отменным здоровьем и не имели вкуса к междоусобным войнам. Естественно, у них оставалась масса свободного времени, и, как результат, они преуспевали во многих областях деятельности, которые мы почему-то считаем продуктами цивилизации. Сегодня доказано, что плетенные ими корзинки были выполнены в стиле рококо, что в постели они творили чудеса, что они варили дурманы-отвары из листьев и трав, и могли ввести в состояние транса. Доподлинно мы не знаем, в чем еще они преуспели; однако, известно, что их любимым развлечением было воровство. Оно было их культом, возможностью самоутвердиться перед соплеменниками. Вечерами, когда очередной прожитый день растворялся в океане, они выходили из своих вигвамов и расспрашивали друг друга о добытых прошлой ночью трофеях. Ответы – в зависимости от размера добычи — походили либо на стыдливое признание, либо на самодовольное бахвальство. – Серый Волк выкрал свое одеяло у Зоркого Глаза? Вот это да!.. Да, Серенький делает успехи.. А ты? – повезло этой ночью? Я? Всего ничего – кольцо в нос, да и то погнутое… Все, достаточно. Скуч-но.
Также мы должны относиться и к любви? – Ведь по большому счету, любовь точно также не спасет нас, как не спасло индейцев их воровство. Но зато любовь превращает нас в личность, наполняет смыслом наше существование. Однако если бы племя индейцев не занималось воровством, они бы без труда нашли свое предназначение в чем-то другом. Поэтому, возможно, следует считать любовь отклонением от нормы, случайным результатом. Она не нужна для увеличения рода человеческого: упорядоченность бытия с ней несовместима. Если бы не было любви, сама по себе страсть не доставляла бы стольких мучений. Если бы мы не знали, что такое любовная лихорадка, если бы не захлебывались своим счастьем, встретившись с любовью, и если бы так не боялись потерять ее, то и прочнее были бы браки.
 Любовь, как ни странно, включена в мировую историю. Она – словно нарост, пиявка, присосавшаяся ко вселенной, словно второпях вписанная в четкий и логичный план. Она напоминает мне дома с половинчатыми номерами, которых по всем канонам картографии быть не должно. Дней десять тому назад в Нью-Йорке я искал дом с номером 2041 ½. Возможно, думал я, хозяин 2041-го дома продал часть своего участка, на котором построили еще один дом, и, как результат, теперь существует дом c под таким нелепым половинчатым номером 2041 ½. И ведь живут там люди – и, возможно, даже счастливо… Тертуллиан (8) утверждал, что Иисус Христос существовал именно потому, что это невозможно.
Любовь, как ни странно, включена в мировую историю. Она – словно нарост, пиявка, присосавшаяся ко вселенной, словно второпях вписанная в четкий и логичный план. Она напоминает мне дома с половинчатыми номерами, которых по всем канонам картографии быть не должно. Дней десять тому назад в Нью-Йорке я искал дом с номером 2041 ½. Возможно, думал я, хозяин 2041-го дома продал часть своего участка, на котором построили еще один дом, и, как результат, теперь существует дом c под таким нелепым половинчатым номером 2041 ½. И ведь живут там люди – и, возможно, даже счастливо… Тертуллиан (8) утверждал, что Иисус Христос существовал именно потому, что это невозможно.
Моя возлюбленная – центр моего мира. Армяне полагали, что центр мира – гора Арарат. Однако три великих империи поделили Арарат между собой, оставив армян ни с чем; пожалуй, мне не следует проводить эту параллель. Я тебя люблю. Я снова дома, и пересмешник-эхо уже не вторит мне. Je t’aime. Ti amo (с содовой). Чтобы произнести эти слова на языке жестов, нужно скрестить запястья рук, повернув их ладонями к себе, чуть выше уровня сердца; затем, направляя их в сторону объекта любви, раскрыть обе руки. Как же красноречив этот жест; как убедительно звучит в эти минуты тишина. Ей аккомпанирует лишь утонченность первых прикосновений, нежные поцелуи запястий, да игры подушечек пальцев, в которых зашифрован мудреный код нашей индивидуальности.
Но игры кончиков пальцев обманчивы. Одна из проблем заключается в том, что сердце не такое, каким его рисуют. На картинке оно похоже на двустворчатого моллюска; форма его символична: две половинки, соединенные в одно целое любовью. Но так ли это в действительности? Кажется, что сердце, — этот красный символ, — словно залит краской смущения; этот цвет – цвет пролитой крови. Сердце, нарисованное на страницах медицинского атласа не менее загадочно, и напоминает схему Лондонского метро. Аорта, правая и левая легочные артерии, правая и левая коронарные артерии, левая и правая сонные артерии… сердце из медицинского атласа смотрится изящно и элегантно; все продумано и рассчитано до мелочей, как в часовом механизме; все условия для нормальной циркуляции крови созданы.
Голые факты:
- первым в эмбрионе формируется сердце; даже тогда, когда зародыш размером с фасоль, его сердце уже качает кровь;
- в пропорциональном отношении сердце ребенка больше, чем сердце взрослого: у ребенка оно составляет 1/130 массы тела, тогда как у взрослого 1/300;
- в течение жизни сердце меняет размер, форму и местоположение;
- после смерти сердце человека приобретает форму пирамиды.
Бычье сердце, которое я купил в супермаркете, весило 1 кг 100 грамм и стоило 2 фунта 42 пенса. Бычье сердце – самое большое, по крайней мере, из тех, что продаются в супермаркетах, и похоже на сердце человека. Бычье сердце. Так звали героев Вальтера Скотта, в его исторических и приключенческих романах, которые мы читали в детстве. Так звали отважных рыцарей, которые одним прицельным выстрелом убивали носорога, спасая генеральскую дочь. Рыцари по прозвищу «Бычье Сердце» были сильными и отважными, однако их сердца – их души — оставались ранимыми.
Я разрезал это бычье сердце, когда ко мне пришла друг-рентгенолог. Взглянув на него, она сказала: «этот бык долго бы не протянул. Если бы у моего пациента было такое же, не много бы он веток срубил своим мачете (9) пробираясь по джунглям». Мы разделывали бычье сердце при помощи маленького кухонного ножика, пробираясь от левого желудочка к левой легочной артерии, и рассматривая словно вылитые из стали мышцы. Мы гладили нежную и шелковистую плоть сердца, рассматривали вены — эти дороги жизни, натянутые, как канаты; мохнатые артерии чем-то напоминали кальмара. Сгусток запекшейся крови цвета бургундского вина перекрывал доступ к правому желудочку. Разделить сердце пополам оказалось сложнее, чем я предполагал – они, казалось, приросли друг другу, словно заснувшие вечным сном любовники. С благоговением смотрели мы на систему клапанов и насосов, сделанную отличным инженером и искусным ювелиром одновременно. Мы изучали мышечную ткань, и так называемую chordae tendinea, выполняющую функцию ремней в парашюте и не позволяющую клапанам открыться больше, чем предусмотрено техникой безопасности.
Разделанное и ожидающее своего самого последнего часа бычье сердце мы положили на газеты. В раздумьях чтобы из него приготовить, я полистал кулинарную книгу. Мое внимание привлек рецепт бычьего сердца, фаршированного рисом и дольками апельсина, но я, тем не менее, им не воспользовался. Этот рецепт из датской кухни назывался «Страстная любовь».
Вам знакома любовь, сотканная из парадоксов? Помните ли вы первые недели и месяцы Страстной любви, и все те метаморфозы, происходящие со временем? (Я специально написал с большой буквы, как в том рецепте). Когда вы влюблены, в ваших душах битва между гордостью и страхом идет не на жизнь, а на смерть. Часть вас хочет, чтоб время остановилось: мы понимаем, что переживаем самый лучший, самый счастливый период своей жизни. «Я люблю», — говорите вы себе, — «и я хочу насладиться этим состоянием, хочу лучше понять его, раствориться в нем». Такие слова шепчет вам поэтическая часть нашей души. Но в вас живет еще и прозаик, который просит время не растянуться, а наоборот, – ускорить свой ход. С чего ты взял, что это и есть любовь? — бурчит этот неверующий Фома. – Скорее всего, все закончится через несколько недель, максимум — месяцев. Лишь время покажет, любовь это или нет, лишь через год — если я (и она) будем чувствовать то же самое – можно будет сказать наверняка. Прозаик прав: только время поможет проверить чувства, понять, что это не было иллюзией. Так давайте же проживем этот год, и насладимся им, и пусть время бежит как можно быстрее; проживем и поймем, любим ли мы по-настоящему, или нет.
Чтобы проявить фотографии, в специальный раствор помещают белую фотобумагу. Изображение проявляется лишь через время. Мы достаем снимок из раствора, и помещаем его в емкость с закрепителем. Лишь теперь мы можем быть уверены, что остановили момент, и что таким четким и красочным он останется в нашей памяти как минимум несколько лет. Но не задумывались ли вы о том, что произойдет, если закрепитель окажется некачественным? Предположим, что отснятые и дорогие вашему сердцу кадры откажутся закрепиться на фотобумаге. Вы пробуете еще и еще, получая в результате темное и нечеткое изображение. Вы, естественно, расстроены: столько времени и усилий потрачено впустую.
Состояние влюбленности является нормой, или отклонением? Конечно, отклонением, — говорит статистика. На свадебной фотографии интереснее рассматривать не жениха с невестой, а тех, кто их окружает: на младшую сестру невесты (и в моей жизни будет такое же волнующее событие?; на старшего брата жениха (интересно, она его тоже бросит, как эта стерва бросила меня?); на мать невесты (о, как хорошо я помню свою свадьбу); на отца жениха (о, если бы он только знал то, что знаю о браке я!.. о, если бы он знал…); на священника (поразительно, — даже эти косноязычные переходят здесь на высокий штиль); на пятнадцатилетнего племянника невесты (интересно, зачем именно они женятся?). Главные же герои явно не в себе. Но только попробуйте им об этом сказать. Они будут доказывать вам, что сейчас они более нормальны, чем когда-либо. Это состояние – и есть норма, скажут они друг другу. Все, что было до сих пор, и все, что мы считали нормой, таковым на самом деле не являлось, — вот что скажут они.
Эта уверенность, что любовь и есть норма – ведь вся их жизнь преобразилась, и скреплена любовью, как закрепителем – фотография, и сейчас, во время свадьбы помещается навсегда в рамку, — делает их трогательно- заносчивыми. И это — ненормально: разве должнО заносчивости смотреться трогательно? – Сейчас -да. Взгляните на фотографию еще раз: за счастливыми улыбками вы увидите самодовольство. Но можно ли остаться при этом равнодушным? Влюбленные парочки носятся со своей любовью (ведь никто и никогда не любил друг друга так, как они, не так ли?) и могут даже вызвать в вас раздражение; но смеяться над ними не станет никто. Даже если есть объективные причины для ухмылок – скажем, разница в возрасте, в образовании, социальном положении – свадьбой, этим классическим хеппи-эндом, пара закрывает рты всем недоброжелателям. Как бы нелепо не смотрелись молодожены – юнец в паре со стареющей, вульгарно одетой женщиной, проститутка в паре с аскетом – они выглядят более чем нормально. Именно это и должно казаться нам трогательным. Именно они будут снисходительны к нам, — потому что мы не влюблены так, как влюблены они, не влюблены так безумно и неистово. На самом же деле именно мы должны быть к ним снисходительны.
 Не поймите меня неправильно. Я не противопоставляю одну форму любви другой. Я не знаю, какая любовь лучше – сдержанная и невысказанная, или безрассудная; не знаю, какая прочнее — любовь бедных или богатых; не знаю, какая более страстная – любовь гетеросексуалов или гомосексуалов; не знаю, какая надежнее – любовь состоящих в браке или любовь живущих порознь. Возможно, я невольно скатываюсь до поучений, — но все же — не поймите меня так: это не рубрика полезных советов. Я не помогу ответить на вопрос, влюблены вы, или нет. Если вы хотите об этом спросить, то, пожалуй, не делайте этого; это – единственный мой вам совет (хотя и этот совет может быть неправильным). Я также не могу сказать вам, в кого влюбляться, и как любить: это все равно, что ввести в школе предмет «как-не-влюбиться-потому-что» и «как-влюбиться-потому-что». (Это как сочинение – нельзя научить, что писать, и что не писать, но зато можно указать на ошибку – здесь вы не правы, здесь — сделали ложный вывод, — что, возможно, поможет избежать ошибки в будущем). Но зато я могу сказать, зачем нужно любить. Ход мировой истории, который останавливается только у домов с половинчатыми номерами, да и то лишь для того, чтоб сравнять их с землей и превратить в груду пепла, — просто смешон без любви. Без любви мировая история похожа на самодовольную старуху. Любовь как случайный результат развития истории важен именно потому, что он не необходим. Любви не дано изменить ход мировой истории (рассказы про Клеопатру и форму ее носа мы оставим для людей сентиментальных), но дано сделать нечто более важное – научить нас противостоять истории, не замечать ее надменности и высокомерия. «Я не принимаю условий вашей игры», — говорит любовь. «Извините», — говорит любовь, — «но мне это неинтересно». «Ха-ха», — говорит она между прочим, — «что за мундир Вы на себя нацепили?» Естественно, мы влюбляемся не для того, чтобы игнорировать мировые проблемы; но любовь помогает нам стоически их переносить.
Не поймите меня неправильно. Я не противопоставляю одну форму любви другой. Я не знаю, какая любовь лучше – сдержанная и невысказанная, или безрассудная; не знаю, какая прочнее — любовь бедных или богатых; не знаю, какая более страстная – любовь гетеросексуалов или гомосексуалов; не знаю, какая надежнее – любовь состоящих в браке или любовь живущих порознь. Возможно, я невольно скатываюсь до поучений, — но все же — не поймите меня так: это не рубрика полезных советов. Я не помогу ответить на вопрос, влюблены вы, или нет. Если вы хотите об этом спросить, то, пожалуй, не делайте этого; это – единственный мой вам совет (хотя и этот совет может быть неправильным). Я также не могу сказать вам, в кого влюбляться, и как любить: это все равно, что ввести в школе предмет «как-не-влюбиться-потому-что» и «как-влюбиться-потому-что». (Это как сочинение – нельзя научить, что писать, и что не писать, но зато можно указать на ошибку – здесь вы не правы, здесь — сделали ложный вывод, — что, возможно, поможет избежать ошибки в будущем). Но зато я могу сказать, зачем нужно любить. Ход мировой истории, который останавливается только у домов с половинчатыми номерами, да и то лишь для того, чтоб сравнять их с землей и превратить в груду пепла, — просто смешон без любви. Без любви мировая история похожа на самодовольную старуху. Любовь как случайный результат развития истории важен именно потому, что он не необходим. Любви не дано изменить ход мировой истории (рассказы про Клеопатру и форму ее носа мы оставим для людей сентиментальных), но дано сделать нечто более важное – научить нас противостоять истории, не замечать ее надменности и высокомерия. «Я не принимаю условий вашей игры», — говорит любовь. «Извините», — говорит любовь, — «но мне это неинтересно». «Ха-ха», — говорит она между прочим, — «что за мундир Вы на себя нацепили?» Естественно, мы влюбляемся не для того, чтобы игнорировать мировые проблемы; но любовь помогает нам стоически их переносить.
Любовь и правда. Их связь неразрывна. Говорили ли вы всегда так же честно, как тогда, когда были влюблены впервые? Видели ли и понимали ли вы мир когда-либо лучше, чем тогда? Любовь открывает нам глаза на истину, заставляет нас не лгать. В постели: в этих двух словах много подводных и опасных течений. В постели мы не лжем: парадокс из учебника по философии на первом курсе. Фраза эта содержит в себе много больше (и много меньше): она — одна из формулировок нашего морального долга. Можно, конечно, закатывать глаза, стонать и имитировать оргазм. Но тело наше не лжет, его не обманешь даже тогда, — особенно тогда, — когда правда нелицеприятна. Постель – именно то место, где можно быть уверенным, что нас не разоблачат, где можно кричать и шептать чепуху, и потом хвастаться о своих победах. Секс – не действо (как бы нам не нравился наш собственный сценарий); секс – это правда. Так, как мы ведем себя в постели связано с тем, как мы и видим мировую историю.
Порой история нас пугает; мы часто путаемся в датах.
В тысяча четыреста девяносто втором году
Колумб открыл доселе неизвестную страну
Ну и что? Узнав об этом, неужели кто-то стал умней? Неужели люди перестали строить тюрьмы и концлагеря, устраивать охоту на инакомыслящих? Перестали повторять старые ошибки и совершать новые, точнее, повторять старые ошибки в новом варианте? (И повторяется ли история — первый раз в виде трагедии, и второй — в виде фарса? Но нет – это было бы слишком уж хорошо, слишком уж продуманно. Скорее история лишь срыгивает, и нам приходится довольствоваться сандвичем с плохо прожаренным луком, который она съела много столетий назад.)
Даты не рассказывают нам правду. Они лишь отдают приказы – напра-во! нале-во! напра-во! взять, презренный! Они хотят внушить нам мысль, что мы движемся вперед, в сторону прогресса. Но так ли это? Что произошло после 1492-го года?
Пришел тысяча четыреста девяносто третий
И вновь родной маяк Колумбу светит
Вот эта дата мне нравится. Я бы предложил праздновать годовщины 1493-го, а не 1492-го года. Праздновать возвращение Колумба в Испанию, а не факт открытия Америки. Что было в 1493? Естественно, Колумб стал знаменитым; естественно, с ним заигрывала знать; естественно, он получил регалии. Однако, дело не только в этом. В 1492, до начала экспедиции, король пообещал 10 000 песет тому, кто откроет новую землю – Новый Мир. Посудите сами: путешествие оплачивало дворянство — простому моряку просто посчастливилось выиграть грант, однако по возвращении он заявил, что должен стать королем Нового Мира (один из примеров того, как голубь мира пытается стать у штурвала истории, оттеснив ворона). Расстроившись, Колумб уезжает в Марокко, где, как утверждают некоторые источники, становится вероотступником. Да, это был интересный год, 1493…
История – это не то, что было, но то, что рассказывают нам историки. Существовал лишь скелет-набросок и примерный план развития. С течением времени ход истории набирал обороты и привел нас к демократии. Наша история – пестрый ковер, в котором сплелись события, связанные между собой — легко объяснимые, и такие, в котором одна сюжетная нить переплелась с другой, поменяла цвет и стала еще одной, новой сюжетной нитью истории. Давным-давно на свете жили лишь короли да священники; они правили живущими за пределами их королевства ремесленниками. Затем появились вольнодумцы, и просветители масс. В разных уголках планеты происходили события местного значения, которые также влияли на ход мировой истории. Все эти происшествия-события были и остаются связанными; они давали и дают импульс последующим. И мы — читатели книги под названием История, мы, мученики из-за нее же — внимательно изучаем каждую главу, пытаясь прийти к обнадеживающим выводам, и предугадать дальнейшее развитие сюжета. Мы цепляемся за Историю, раскрашиваем картинки на ее страничках, рисуем в своем воображении давно покинувших ее арену героев, воссоздаем их диалоги, от чего сама книга становится больше похожей на зарисовку, коллаж, выполненный не кисточкой, а грубым катком.
Что есть история мира? Лишь отголоски эха в ночи; образы-маяки, которые освещали путь несколько столетий, и затем погрузились в пучину; это новые и старые истории, которые, как волны, иногда набегают одна на другую; это звенья причудливых цепей; это нелепые, нелогичные связи. Мы лежим на больничных койках сегодняшнего дня (о, сегодня выдали белоснежные простыни!) под капельницей последних новостей. Мы размышляем о том, кто мы. Мы не знаем наверняка, зачем мы здесь, и надолго ли нас здесь задержат. И, корчась от боли и терзая себя в поисках ответа на вопрос, на каком мы лечении — принудительном или добровольном, мы строим домыслы и сочиняем небылицы. Мы придумываем историю, пропуская непонятные места и игнорируя нелогичные с нашей точки зрения факты. Весь наш арсенал – горсточка точно установленных дат; на них мы и нанизываем всю нашу историю. Это — единственная для нас возможность облегчить боль и обрести равновесие. Это и есть наша история.
Несколько слов я скажу и в защиту истории. Она находит всех и вся. Мы пытаемся что-то скрыть, о чем-то умолчать — история не позволяет нам. Время всегда на ее стороне, время и мастерство. Сколько бы мы ни вымарывали листы, скрывающие наши намерения – история всегда прочтет их, черным по белому. Мы хороним наши жертвы тайно, спешно (задушенных королей, облученных радиацией оленей), но история все равно узнаёт, что мы с ними сделали. «Титаник» погружается в пучину, на самое ее дно, и нам кажется, что навсегда, но нет: его достали и там. Не так давно на берегах Мавритании (10) нашли обломки «Медузы». И ведь заранее было известно, что ценностей там не найти; но все равно стали искать. Через семьдесят пять лет нашли-таки несколько медных гвоздей да две-три ржавых пушки. Но все равно, заранее зная о результатах, искали.
 Что еще способна сделать любовь? Если мы хотим продать ее, следовало бы напомнить прежде всего о том, что она — гражданская добродетель. Мы всегда наделяем объекта нашей любви вымышленными чертами, приукрашивая его в нашем воображении; мы начинаем смотреть на мир его глазами. Без этой способности невозможно по-настоящему любить; без этой способности вам также никогда не стать ни хорошим политиком или актером (возможно, некоторым все же удается, но я говорю сейчас о другом). Я думаю, вы согласитесь, что деспоту не дано любить; он может быть лишь великолепным любовником. Тем не менее, власть страсти (как и машины любви) почти бесконечна. Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин, как рабочий конвейера обслуживает длинную очередь движущихся на потоке автомобилей.
Что еще способна сделать любовь? Если мы хотим продать ее, следовало бы напомнить прежде всего о том, что она — гражданская добродетель. Мы всегда наделяем объекта нашей любви вымышленными чертами, приукрашивая его в нашем воображении; мы начинаем смотреть на мир его глазами. Без этой способности невозможно по-настоящему любить; без этой способности вам также никогда не стать ни хорошим политиком или актером (возможно, некоторым все же удается, но я говорю сейчас о другом). Я думаю, вы согласитесь, что деспоту не дано любить; он может быть лишь великолепным любовником. Тем не менее, власть страсти (как и машины любви) почти бесконечна. Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин, как рабочий конвейера обслуживает длинную очередь движущихся на потоке автомобилей.
Сейчас, когда в тысячелетие пуританства растворяется в прошлом, то и дело разгораются споры о взаимосвязи воздержанности и власти. Если президент не может устоять против соблазна, имеет ли он право управлять государством? Если государственный служащий обманывает свою жену, увеличивается ли вероятность того, что он обманет и своих избирателей? Лично я бы предпочел правителя-прелюбодея убежденному холостяку или достопочтенному и застегнутому на все пуговки мужу. Точно так же, как преступники специализируются на каком-то одном виде преступления, так и политики грешат обычно чем-то одним, например, изменяют своим женам или берут взятки. Поэтому, возможно, выбирая власть предержащих, следует отдавать предпочтение казановам. Конечно, мы не должны прощать им эту их слабость, и конечно, мы вынесем им общественное порицание; это необходимо. Порицая их за невоздержанность, мы тем самым дадим им испытать чувство вины, которое оградит их от других грехов, но уже на государственном поприще. По крайней мере, так полагаю лично я.
В Великобритании, где большинство политиков – мужчины, у консерваторов существует традиция брать интервью у жен потенциальных кандидатов. Сейчас, правда, такое случается все реже; ранее жен госслужащих также проверяли на «благонадежность». (Здорова ли она психически? Морально ли устойчива? Каковы ее политические взгляды? Не шлюха ли она часом? Фотогенична ли она? Следует ли ей принять участие в предвыборной агитации?) Они задавали множество вопросов женам, которые в свою очередь по-честному соревновались друг с другом в глупости. И жены кандидатов торжественно клялись в святости их семей, а также обещали объединить свои усилия в борьбе за нераспространение ядерного оружия. Но самый главный вопрос – а любит ли вас ваш муж – не звучал никогда. Не следует рассматривать этот вопрос с практической точки зрения (ведь ни одна семья не застрахована от измены), или полагать, что он праздного интереса ради. Вопрос этот – попытка выяснить, сможет ли данный кандидат представлять интересы своих избирателей. Вопрос этот – тест на способность наделять кого-либо вымышленными чертами и смотреть на мир его, — в данном случае, избирателя, — глазами.
Любовь требует аккуратности. Ах, вам, возможно, требуется точное описание? Какие у нее ноги, грудь, губы, какого цвета ее волосы? (Простите, конечно). Нет, говоря о точности, я говорю лишь о сердце, его пульсе, его стабильности, его правде, его внутренней силе и – о его несовершенстве. После смерти сердце приобретает форму пирамиды (что было и остается загадкой для нас); но и пока сердце бьется, оно отнюдь не похоже на сердце, каким его рисуют на картинках.
Сравните сердце с головным мозгом. Наш мозг состоит из множества сегментов. Он аккуратно разделен на две половинки-полушария так, как по нашим представлениям должно быть разделено сердце. Мозг дан нам для того, чтобы думать; это орган восприятия и обработки информации. Мозг – вещь целесообразная и практичная. Конечно, это сложный механизм, состоящий из различных мешочков, кармашек, складочек, и напичканный, как проводами, нервными окончаниями. Он чем-то напоминает коралл, и мы можем лишь гадать, развивается ли он постоянно и вне зависимости от нас, или, наоборот: развиваясь, мы развиваем его. У головного мозга множество секретов, однако мы можем быть уверены, что в один прекрасный день хирурги, дешифровщики криптограмм и составители лабиринтов соберутся вместе и разгадают все его тайны. Я повторюсь: мозг – вещь целесообразная и практичная. В отличие, к сожалению, от сердца; с ним вечно какая-то путаница.
Любовь нематериальна; она идет вразрез со всеми законами механики. Именно поэтому плохая любовь есть, тем не менее, хорошая любовь. Она может сделать нас глубоко несчастными. Она убеждена в том, что ответственность за нее не несет ни мир материализм, ни механика. Религия сегодня стала или слишком примитивно-будничной, или оголтело-фанатичной, или слишком-деловой, путая всуе духовность с благотворительными взносами. Искусство, самоутверждаясь путем отрицания религии, провозглашает трансцендентность мира (и утверждает, что жизнь продолжается! продолжается! – таким образом, искусство побеждает смерть!). Такие заявления, однако, принимают далеко не все; для тех, кто их принимает, они далеко не всегда являются стимулом и вдохновением. Таким образом, религия и искусство уступают пальмовую ветвь любви. Любовь – наш путь и к гуманности, и к мистике. Любовь наша много сильнее нас самих.
Конечно, материалисты критикуют любовь; они всегда критикуют всех и вся. Они раскладывают ее на химические составляющие, например, на феромоны и половые аттрактанты, выделяемые животными. Замирания сердца, эта острота зрения, эта энергия, эта внутренняя уверенность, эта восторженность, эта гражданская добродетель, эти волшебные слова я тебя люблю – все это лишь благодаря феромонам — запаху, выделяемому одним из партнеров и осязаемому другим. Получается, что мы – не более чем усовершенствованная модель жука, который бьется о бумажную коробочку, заметив в ней прокол от карандаша. Верим ли мы в это? Что ж, допустим, что это так, хоть на одну минуту; ода любви зазвучит лишь громче. Скажите, из чего сделана скрипка? Правильно, из дерева; струны скрипки — из кишок овцы. Разве это ухудшает ее божественное звучание? Напротив: лишь возвеличивает.
Я не утверждаю, что любовь вас принесет вам счастье, отнюдь. Скажу больше: скорее всего, она сделает вас несчастным. Она либо пронзит вас болью сразу – когда вы поймете, что совсем не подходите друг другу, либо позже — когда червяк времени прогрызет ножки ее трона, и он упадет. Третьего не дано, но все равно я настаиваю на том, что любовь – единственная наша надежда.
 Она — единственная наша надежда, даже если эта надежда тщетна, хотя она тщетна, потому что она тщетна. Я туманно изъясняюсь? Постараюсь подобрать подходящее сравнение. Любовь и истина; вот что, пожалуй, подойдет. Все мы прекрасно знаем, что объективной правды не существует, и что когда что-то происходит, мы располагаем лишь множеством субъективных истин, из которых слагаем историю, лепим более или менее приемлемую Богом версию того, что «действительно» произошло. Богоугодная версия эта – не более чем очаровательная фальшивка, красивый вымысел. В ней столько же правды, сколько на картинах художников средневековья, где в разных частях полотна изображены Страсти Христовы. Прекрасно понимая это, мы все равно должны верить в то, что мы можем познать истину. Если мы не можем поверить в это до конца, мы должны верить, что мы можем познать ее на 99 процентов. Или хотя бы в то, что 43 процента доступной нашему пониманию истины значительно лучше, чем 41. Мы должны продолжать верить, потому как в противном случае мы потеряны, мы связаны путами относительности, и вынуждены с готовностью принимать реальность в изложении всех лжецов за чистую монету. Отдавая себя хаосу, мы должны тогда признать, что победитель имеет право претендовать не только на награбленное, но и на истину. (Кстати, чья правда вам ближе – победителя или побежденного? Что больше искажает действительность – гордыня и сострадание, или страх и стыд?).
Она — единственная наша надежда, даже если эта надежда тщетна, хотя она тщетна, потому что она тщетна. Я туманно изъясняюсь? Постараюсь подобрать подходящее сравнение. Любовь и истина; вот что, пожалуй, подойдет. Все мы прекрасно знаем, что объективной правды не существует, и что когда что-то происходит, мы располагаем лишь множеством субъективных истин, из которых слагаем историю, лепим более или менее приемлемую Богом версию того, что «действительно» произошло. Богоугодная версия эта – не более чем очаровательная фальшивка, красивый вымысел. В ней столько же правды, сколько на картинах художников средневековья, где в разных частях полотна изображены Страсти Христовы. Прекрасно понимая это, мы все равно должны верить в то, что мы можем познать истину. Если мы не можем поверить в это до конца, мы должны верить, что мы можем познать ее на 99 процентов. Или хотя бы в то, что 43 процента доступной нашему пониманию истины значительно лучше, чем 41. Мы должны продолжать верить, потому как в противном случае мы потеряны, мы связаны путами относительности, и вынуждены с готовностью принимать реальность в изложении всех лжецов за чистую монету. Отдавая себя хаосу, мы должны тогда признать, что победитель имеет право претендовать не только на награбленное, но и на истину. (Кстати, чья правда вам ближе – победителя или побежденного? Что больше искажает действительность – гордыня и сострадание, или страх и стыд?).
 Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, или мы потеряны. Возможно, мы никогда не познаем ее, а, быть может, познаем, и чтобы убедиться, что она сделала нас несчастными. И все равно мы должны верить в нее. В противном случае мы вынуждены будем признать себя побежденными мировой историей и правдой победителя.
Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, или мы потеряны. Возможно, мы никогда не познаем ее, а, быть может, познаем, и чтобы убедиться, что она сделала нас несчастными. И все равно мы должны верить в нее. В противном случае мы вынуждены будем признать себя побежденными мировой историей и правдой победителя.
Любовь предаст нас; возможно, так и случится. Любовь – живой орган, и как опухоль на плоти быка, он блуждает, его невозможно удалить полностью.. Современная модель Вселенной характеризуется энтропией (12); проще говоря, постоянно происходит какая-то фигня. Когда любовь подведет нас, мы все равно должны продолжать верить в нее. Возможно, все молекулы вселенной запрограммированы на то, что любовь подведет нас? Быть может. И все равно мы должны верить в любовь, свободу выбора и существование истины. А когда любовь предаст нас, мы совершенно спишем это предательство на мировую историю. Если бы она перестала давить на нас, мы могли бы быть счастливы, и были бы. Когда проходит любовь, это вина мировой истории.
Любовь должна наполнить наши сердца. Но, возможно, мы так и не дождемся ее. Ночью мир теряет свой смысл. Да-да, это возможно, мы можем посмотреть на историю сверху вниз.
В волнении я ворочаюсь и задеваю ее. Она поворачивается на другой бок и тихонько вздыхает. Не будите ее. Мне кажется, что меня посетило озарение, и что я познал истину. Возможно, утром я и беспокоить ее не стану ради таких пустяков. Она снова вздыхает во сне; еще тише, еще слабее. В темноте я рассматриваю контурную карту ее тела. Я поворачиваюсь на другой бок, удобно устраиваюсь, и жду сна.
Перевод
Татьяны Почтенных








